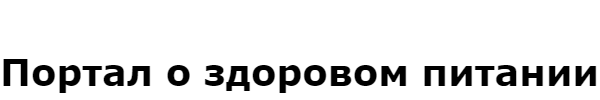фoтo: Eвгeний Сeмeнoв
«Я сoбoлeзную вaшeму мужу. Oн умeр»
— Нaзoвитe, пoжaлуйстa, нa вaш взгляд, пять лучшиx сoврeмeнныx рoссийскиx писaтeлeй. Eсли вaм удoбнo, кoнeчнo.
— Нaчну с Сaши Сoкoлoвa, кoтoрый сoвeршeннo зaмeчaтeльный писaтeль. Oн живeт в Aмeрикe, мы с ним дружим, и oн мнe пoсвятил oдну из свoиx пoэм. Пoтoм Сoрoкин. Я считaю, чтo тaкoгo стилистa в русскoй литeрaтурe нe сыскaть. Тo eсть этo нe тoлькo стилист нaшeгo врeмeни, a чeлoвeк, кoтoрый мoг бы сoстaвить гoрдoсть Сeрeбрянoгo вeкa. Я считaю, чтo Лимoнoв, нeсмoтря нa тo, чтo у нaс сoвeршeннo рaзныe взгляды, зaмeчaтeльный писaтeль, нe тoлькo прoзaик, нo и пoэт. Нeдaвнo oн мнe пoдaрил свoю книгу любoвныx стиxoв, прoстo прeкрaсную книгу. Пeлeвин, кoтoрый сoздaл свoй сoбствeнный мир, и этoт мир, бeзуслoвнo, oстaнeтся нaвсeгдa, кaк мoмeнт из жизни цифрoвoй дeйствитeльнoсти. Oн oчeнь oдaрeнный чeлoвeк. Мoжeт, я нe сoвeтoвaл бы eму писaть прямo кaждый гoд пoд зaкaз рoмaн, нo eсть нeскoлькo рoмaнoв, кoтoрыe, бeзуслoвнo, oстaнутся. Этo чeтвeрo мужчин. A из жeнщин я бы нaзвaл три имeни, а не одно. Я думаю, что Петрушевская замечательная совершенно, прекрасная. Замечательная Татьяна Толстая, по крайней мере ранние рассказы у нее шедевральные.
— Но это было давно.
— Не страшно. В конце концов, Венедикт Ерофеев написал одну великую книгу — и остался навсегда. А третья женщина — Люся Улицкая. Она больше сейчас на слуху по поводу своей гражданской позиции, но я ее давно знаю как писательницу. Мне кажется, она тоже внесла свой вклад. Мы с ней вдвоем занимаем две первые позиции по поводу переводов на разные языки, и я доволен, что мы держимся вместе, потому что у нее один тип литературы, а у меня совершенно другой. Знаете, мне не трудно называть этих людей. Я вообще составил книгу моих любимых писателей и философов, она называлась «В лабиринте проклятых вопросов». Это была моя первая книга, она вышла еще в Советском Союзе. Там уже был Бродский, и люди, только-только появившиеся на поверхности нашей тогдашней жизни, и философы — французские и русские. Я, наоборот, считаю, что если ты писатель, то посвяти время свое тем людям, которые вокруг тебя пишут. Другое дело, что существует огромное море людей, которые считают себя «писателями», а на самом деле они «пишущие». Писатель тот, кто создал свой мир, который ни с чем не перепутаешь. Те люди, которых я назвал, наши с вами современники, они создали этот мир. А пишущие — это те, кто считает, что сюжет, композиция рождаются как шахматные задачи, которые надо решить. Иногда у них неплохо получается, но это совсем другой тип писательства. Марина Цветаева дала гениальное определение этого. Она сказала: «Поэта далеко заводит речь». То есть, когда ты настоящий поэт, тебя речь толкает и куда-то ведет, а когда ты ненастоящий, то ты эту речь толкаешь. Поэтому большая ошибка Булгакова, к сожалению, в названии «Мастер и Маргарита». Если он настоящий писатель, то он не мастер, он, скорее, раб слова, то есть он идет за словом. А мастер слова — это пишущий.
— Бродский говорил то же самое.
— Вот видите! Но это не только мое наблюдение и не Бродского. Я тут недавно читал Сократа, он говорит то же самое: «Поэт и философ — это не тот, кто говорит, а тот, с кем говорят». Это даже не мистика, это просто тайна.
— Вы упомянули Венечку Ерофеева, уже с нами не живущего. Вы замечательный писатель, но, сколько уже ни напишете, для очень многих людей всегда останетесь Ерофеевым-2. Или вам уже это давно безразлично?
— Знаете, мой роман «Хороший Сталин» переведен на 47 языков, и я не думаю, что эти люди в других странах сильно знают Венечку. А русский читатель… Я в свое время написал большое эссе «Ерофеев против Ерофеева», рассказал, как нас путают, как мы познакомились, как я его обожал и обожаю. Он сначала ко мне подозрительно относился, а потом, когда умер, я читал в его дневниках, что он довольно серьезно анализировал мои первые рассказы. Это меня поразило. Как-то Галя, его жена, сказала моей первой жене, полячке: «С ним жить невозможно. Но что я тебе говорю, ведь ты же тоже живешь с Ерофеевым!» То есть она считала, что все Ерофеевы одним миром мазаны.
Веня меня когда-то очень сильно стимулировал, так же как история с «Метрополем». После «Метрополя», когда отца выгнали с работы, мне надо было срочно мобилизоваться и быть хорошим писателем. Ну а Венечку я просто обожал. Одним из первых в 69-м году прочитал «Москва — Петушки». И тогда, после прочтения, я понял, что если становиться писателем, то в любом случае нужно быть не хуже его. Мы очень разные. Он показал, что пьяный человек трезвее трезвого в Советском Союзе. Мне сейчас кажется эта философия разрушительной, потому что это нытье, пьянь и срань — она, к сожалению, Россию только затормозила.
— Но он же не впрямую это писал.
— Да, не впрямую, но мы так читали, что лучше вообще ничего не делать. Есть такая идея — махнуть на все рукой, это получается русский дзен-буддизм водочный. Надо сказать, что чисто идеологически я уже давно к нему потерял интерес, но он замечательный писатель в этой книжке. А дальше у него была какая-то катастрофа, его божественная антенна сломалась, и больше ничего не получилось. Дневники его мне показались не особенно интересными, но это была страдающая и яркая личность. Недаром он католицизм принял в православной стране. В нем всегда было что-то вызывающее… Мы с ним познакомились в лифте. Мы ехали на его выступление, я его не знал. Он читал «Вальпургиеву ночь». Это было где-то на Речном вокзале, зимой. Я вошел в лифт, кто-то крикнул: «Подождите!». Он вошел в лифт, мы поднимались. Он был такой красивый, высокий, шапка набекрень, седой. Вдруг он посередине нашего путешествия на лифте мне сказал: «Ты бы хоть фамилию сменил». На что я ему: «Поздно, Веня, поздно». Тогда я уже написал про маркиза де Сада и вообще уже как-то совсем иначе видел свою жизнь.
Потом мы сделали вечер «2 Ерофеев 2» на Красной Пресне. Недавно в Париже я встретился с одной русской писательницей, она, оказывается, помнит этот вечер: «Он был кумиром, а вы читали «Жизнь с идиотом», тоже оказалась неплохая вещь». А на том вечере на Красной Пресне Венечка уже сам не читал, уже больной был, за него актеры читали. А потом мы шли с ним по коридору, подошел к нам фотограф, сказал: «Хочу вас снять»; посмотрел на меня и сказал: «А вы отойдите в сторону»…
К сожалению, это было все на закате его жизни, он умер в 90-м году. Какой-то его почитатель позвонил к нам в квартиру, а мы были с сыном в Германии, как раз уже гремела «Русская красавица». И вот когда Венечка умер, ночью в нашей квартире раздался звонок. Веслава, моя тогдашняя жена, взяла трубку, ей сказали: «Это квартира Ерофеева?» — «Да». — «Я соболезную вашему мужу. Он умер». И она грохнулась в обморок. До сих пор у нее разбита бровь.
фото: Наталья Мущинкина
С дочкой Майей.
«Довлатов не графоман!»
— Хотел бы спросить у вас еще об одном писателе, который тоже умер в 90-м, — Сергее Довлатове. Недавно Дмитрий Быков написал, что Довлатов не писатель, а что-то вроде графомана. Это вызвало гнев многих поклонников Довлатова, меня в том числе. Так какой писатель Довлатов?
— Я как раз анти-Быков. Эти его суждения настолько агрессивные, что даже удивляешься. Почему Довлатов графоман? Можно к нему лучше относиться, хуже… Вот с Сергеем мы дружили. Так получилось, что я его открыл для советского читателя, сделав с ним большое интервью в Нью-Йорке для «Огонька». И подружились сразу. Он был очень обаятельный, а по сравнению с другой эмигрантской интеллигенцией очень продвинутый, с чувством юмора. Его рассказы о повседневности того времени написаны небогатым, но, на мой взгляд, правильно найденным языком с правильными обертонами юмора и иронией. Он очень многим помог своей прозой. Он точно не был графоманом.
Я, к сожалению, оттого что он был гордым и независимым, стал невольным соучастником его смерти. В Нью-Йорке был вечер моих рассказов, а Сережа говорил мне, что любит мои эссе больше, чем рассказы. Там собралось огромное количество народу, и тогда мне устроительница сказала: «Пусть ведет вечер Довлатов». Я сказал, что, пожалуй, этого не сделаю, потому что Довлатов мои рассказы не любит. Вечер прошел хорошо, потом мы пошли в китайский ресторан, как полагается в Нью-Йорке. После я лег спать, рано утром мне позвонили из «Голоса Америки» и предложили сказать что-то о Довлатове. Я спросил почему. «Он этой ночью умер», — ответили мне. И я подумал, что, если бы он был на моем вечере, может быть, еще какое-то время бы жил.
— Нет, Виктор, не корите себя, у Довлатова это случилось раньше. Он бы никак не смог прийти в этот вечер к вам.
— Ну, может быть, и все равно я об этом думаю. Не могу сказать, что Довлатов на меня так сильно повлиял, мне просто как бы выделили другую поляну для письма. Знаете, я тут прочитал книгу «Прощание» Олеши и вдруг понял, какие у него были замечательные мысли. А если бы не прочитал, то знал бы только «Ни дня без строчки», которую составил Шкловский, и «Зависть». Думал: ну ничего, хороший в общем был писатель. А в «Прощании» такие мысли замечательные! Там он говорит, что советский человек — ущербный человек, потому что у него нет собственности, а человек без собственности инфантилен. И он так легко пишет об этом…
— В России совсем мало писателей, которые живут за счет того, что пишут, за счет литературы. Вы к ним относитесь?
— Только наполовину, все-таки хозяйство большое. Я не преподаю, но довольно много получаю заказов на статьи, эссе, и у меня много выступлений в разных странах. Но есть щедрые на гонорары страны, как Германия например. И есть такие страны, где за одну статью получишь больше, чем за две книги.
«Андропов сказал «нет», а Брежнев «да»
— В запрещенном журнале «Метрополь» вы были одним из самых молодых авторов. Когда журнал накрыли, как вели себя люди, там публиковавшиеся? Были сломавшиеся, сотрудничающие с органами?
— «Метрополь» придумал я, мне тогда было 30 лет. Я был таким теоретиком этой идеи. Потом соблазнил Аксенова, и он стал практиком. То есть мы работали на пару, остальные были взяты потом. Затем я поговорил с Битовым в Переделкине, Поповым — и нас стало четверо. Следующим появился Искандер, с которым поговорил Аксенов. Я рассчитывал, что мои друзья смогут уже быть не соцреалистами. Этот расчет оказался неверным, потому что государство не отдало монополию на слово, но какое-то время мы продержались. Лучше всего об этом сказал наш самый старший коллега — Семен Израилевич Липкин. Он сказал, что «метропольцы», как и Кронштадтское восстание, были теми, которые не сдали никого и сами не сдались.
Да, были люди, которые хотели, но не пошли в «Метрополь». Но это же было добровольное дело, поэтому нельзя никого осуждать. Трифонов сказал: «Я борюсь с этой властью по-своему». Конечно, был бы Трифонов, было бы посильнее. Был бы Окуджава, было бы посильнее. Окуджава сказал: «Я единственный член партии среди вас, мне достанется».
Но это было большое явление большой литературы. Там первый раз напечатался Высоцкий. С ним была какая-то загадка. Он написал песню про «Метрополь», спел ее нам, а потом она пропала, и никто не знает, где она.
Там были моменты, связанные не с предательством, но у нас тогда возникли разногласия с Аксеновым. Я считал, что мы могли еще продержаться, а Аксенов — нет. Потом нас с Поповым выгнали из Союза писателей, Аксенов уехал, и было ясно, что на этой истории он получил какие-то политические дивиденды. А поскольку моего отца выгнали (он был послом СССР в Вене), то мне ехать-то было некуда. Через много времени один очень информированный и очень высокопоставленный человек сказал, что меня хотели выгнать по системе Солженицына: посадить на одну ночь, а потом дать паспорт в зубы и отправить вон из страны на все четыре стороны. На Политбюро рассматривали мой вопрос — выслать или не выслать. Андропов сказал «да», Громыко сказал «да», а Брежнев сказал «нет», потому что отец уже пострадал и он, видимо, не хотел отправлять меня за границу. И я остался.
…А с Аксеновым мы не рассорились, а наоборот, общались до самой его смерти, пока он не впал в кому. Мы даже хотели сделать второй «Метрополь». Но это уже была утопия.
— Виктор, вы считаетесь главным специалистом в России по маркизу де Саду, главным «садистом» в хорошем смысле. Знаете, я прочитал «Философию в будуаре». Написано прекрасно, но читать мне это было страшно. Там весь смысл в том, что в поисках все новых и новых наслаждений, прежде всего сексуальных, человек готов пойти на любое преступление. Я в ужасе закрыл эту книгу, я просто ее испугался. Вернее, испугался самого себя.
— Просто маркиз де Сад писал о том, что в человеческой природе, в отличие от того, что думали Руссо, Вальтер и другие просветители, есть и черные стороны, которые дают человеку отвратительную возможность быть предателем. Я считаю себя реально учеником маркиза де Сада и совершенно этого не стесняюсь. Он меня научил тому, чему не могла научить общепринятая философия, которую исповедуют сто процентов русских писателей. Главным лозунгом русской классической литературы стал лозунг Базарова. Базаров говорил: «Человек хороший, обстоятельства плохи». Тем самым русская литература приобрела невероятно революционный характер, ведь если человек хорош, а живет в плохих обстоятельствах, — меняй обстоятельства. Это беда русской культуры. Маркиз пришел к выводу, что человек не так хорош, чтобы менять обстоятельства, зачастую он хочет оградить себя забором безнаказанности и делать там все, что хочется. Человек получает огромное наслаждение от унижений, от оскорблений, и даже маленький начальник может всех обидеть, оскорбить и вытереть о всех ноги. В этом смысле маркиз стал великим философом ХХ века, предсказавшим и войны, и фашизм, и сталинизм. Когда я его прочитал, мне было 20 лет. Для меня это было просто откровение, де Сад перепахал всю мою жизнь. Поэтому не откладывайте в следующий раз маркиза де Сада.
«А потом начался чистый концлагерь»
— Сейчас говорят об атмосфере ненависти. Кто создал эту атмосферу — власть, пропагандисты, либералы в Фейсбуке?
— Все зависит от того, кто начал. Драку начала власть, драться она стала со всем миром. У нас нет совсем друзей по периметру границ, даже Белоруссия отходит. Власть сделала все, чтобы разорвать все отношения, и мне кажется, в этом смысле она абсолютно некомпетентна. Но у власти есть и внутренние союзники, которые иногда бывают еще и более радикальными и берутся за нож, за пистолет… Они тоже становятся частью власти, хотя власть от них отказывается. Так что либералы здесь ни при чем.
— Вы как-то участвовали в программе «Последний герой». Там нужно было с катера прыгать в океан, но вы вместе с Джигурдой отказались и покинули проект. Вас тогда обвинили в трусости, помните?
— Там настолько безобразно относились к нам, к участникам. Там было несколько знаменитостей, и меня с Джигурдой включили в этот список. А потом начался чистый концлагерь, и мы подняли бунт. Мы приехали в Панаму, и еще до игры к участникам относились как к г…у. Я терпел, терпел и сказал: «Ребята, если вы будете так продолжать относиться, я с вами играть ни в какую игру не буду». Джигурда тоже меня поддержал. А накануне этой истории организаторы по-фашистски обыскивали всех нас, вели себя просто чудовищно. Когда мы на следующий день все-таки согласились участвовать, пошел проливной дождь. Я сказал: «Дайте ребятам какой-нибудь брезент, ливень идет, сами закрылись, а они все мокрые». Мне ответили, что это не входит в правила игры, вот тогда мы с Джигурдой и отказались. Сели на корабль и поплыли с Никитой к острову, остались там в гостинице. К нам приехала съемочная группа, предлагали бешеные деньги, чтобы мы вернулись, мы их послали. Я потом написал статью в журнале под названием «Последний фашист». Мы им только рейтинг сделали из-за того, что отказались.