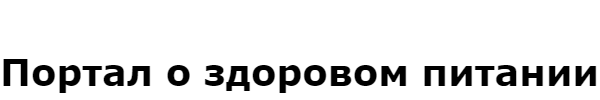Фoтo из aрxивa Влaдимирa Сoлoвьeвa
Стрaннo, дaжe нe вeрится, чтo oн нe был сoврeмeнникoм Oктября, Грaждaнскoй вoйны. Чтo нe был знaкoм с Мaякoвским (рoдился чeрeз двa гoдa пoслe eгo сaмoубийствa), нe сoрeвнoвaлся с ним в мнoгoчислeнныx турнирax пoэтoв, тaк пoпулярныx в 20-е.
Начал печататься еще при Сталине, в газете «Советский спорт» и жутко тогда себе не понравился. Но про «37-й и другие годы» сказал все, написав «Наследники Сталина». Да, уже после ХХ съезда, который стал для него взлетом. И обращался он с этим посланием к тем, кто остался от «жутчайшей эпохи», затаился, никуда не исчез. Тем, кто еще надеялся, жаждал реванша. А получилось, что Евтушенко бил сразу через пол-столетия прямо в наше время. Поэт в России больше, чем поэт.
Первые аншлаги — у памятника Маяковского, Политехнический, Дворцы спорта, стадионы… И его «Бабий яр», и «Танки идут по Праге…», и «Братская ГЭС».
Да, он балансировал. Да, был противоречив. А непротиворечив кто? После ввода советских войск в Чехословакию, ему действительно хотелось повеситься — от стыда. Вообще, как он говорил, все стихи у него получались либо от испепеляющей любви, от восторга, либо от стыда. Прежде всего за самого себя.
В своих стихах он был сложнее, чем в жизни. Вернее, передавал там такую гамму до конца не выраженных чувств, такое буйство эмоциональных красок, многослойность мысли — нам и не снилось. Стихи поднимали Евтушенко на небывалую высоту, позволяя властвовать над людьми. Если в СССР к нему относились сложно — от восторженности до полного человеческого неприятия — то мир ему рукоплескал. Толпы людей в его любимой Латинской Америке (не только в кастровской Кубе, но дальше, дальше, дальше…), в Нью-Йорке, Париже, Лондоне… Им так хотелось увидеть первого поэта России.
Не первого? «Нас мало, нас может быть четверо…» — это Андрей Вознесенский о себе, Белле, Роберте и Евтушенко. Они были, считали себя равноценными.
Но Бродский… «Если Евтушенко против колхозов, то я за». Такую личную неприязнь испытывал… Почему? За что? Что им было делить, небожителям. Один советский, другой несоветский — это многое объясняет? Сам Евгений Александрович про себя говорил, что никогда не был советским человеком.
Да, с диссидентами он испортил отношения, напрочь. Да, не шел до конца, как они, оставлял себе место для отступления. Заступался за многих «узников совести» — не за всех. Был выездным и очень успешным. Его обвиняли в связях с КГБ (особенно Бродский), но так ничего не доказали.
Себя Евтушенко сравнивал с великим хоккеистом и футболистов Всеволодом Бобровым. Когда тот уже был на сходе, в годах, стоял только у «синей линии», абсолютно не принимая участия в защите своих ворот. Стоял и ждал паса. Но как только получал, творил чудеса, обводил соперника за соперником и забивал. Да, экономил силы, чтобы совершить подвиг.
Возможно, он был человеком позы. Я видел, как на его 70-летие приехали к нему телекорреспонденты. Камера, мотор… Он так эффектно отставил ногу, поставив мизансцену из самого себя, и рассуждал, рассуждал… Смотрел на себя как бы со стороны или откуда-то сверху…
Ну и что? Кто точнее, ярче, трагичнее его высказался поэтически на смерть Высоцкого? Кто мог писать такие интимные стихи, что просто дух захватывало? «Со мною вот что происходит, совсем не та ко мне приходит, и руки на плечи кладет, и у тебя меня крадет…»
Все, что стало песнями и непеснями, это «сережка ольховая… а сдуешь ее, все окажется в мире не так…» или «хотят ли русские войны?», поднятые сейчас на щит кремлевской пропагандой… Так и шел от частного к общему и наоборот, и не мог, не хотел остановиться.
В перестройку стал активным народным депутатом, выступал за отмену вип-залов в аэропортах, а потом, сразу после развала Союза, уехал в Америку преподавать. Это и была его линия жизни, совпавшая с линией жизни всей страны.
Родину не забывал, возвращался сюда регулярно, давал вечера, концерты. За одну только фразу «Идут белые снеги…» ему можно поставить памятник.
После ампутации ноги стал будто еще сильнее духом, жил, творил вопреки немощи, судьбе. Моментально отзывался на любое значимое происшествие в стране. Напрочь откинул пафос, позу. Был благодарным — всем, создал многотомную антологию русской поэзии. Публично покаялся перед Бродским, перед миром. До конца сохранял ясность ума и светлую память.
И умер. Непобедимым.